00:08 Интернет как обязанность Человечество начинает переселяться в сеть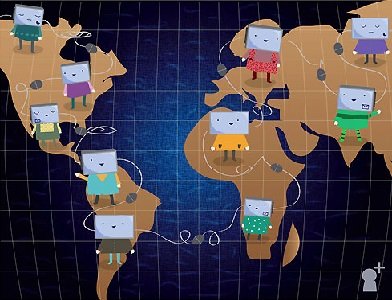 |
|
Андрей Мирошниченко Осенью 2011 года психолог из Санкт-Петербурга Катерина Мурашева организовала небольшое исследование. По условиям эксперимента подросток соглашался провести восемь часов непрерывно в одиночестве, сам с собой, не пользуясь никакими средствами коммуникации, а также радио и телевизором. Все остальные занятия — игра, чтение, письмо, ремесло, рисование, лепка, пение, музицирование, прогулки и т. д. — были разрешены. При возникновении дискомфорта подростки были вправе прекратить эксперимент. В исследовании с согласия родителей приняли участие 68 подростков. Довели эксперимент до конца лишь трое: два мальчика и девочка. Все остальные не смогли пробыть наедине с собой и одного дня. Причины прерывания эксперимента подростки объясняли весьма однообразно: «Я больше не мог», «Мне казалось, что я сейчас взорвусь», «У меня голова лопнет». При анализе происходившего с ними во время эксперимента 51 подросток употреблял словосочетания «зависимость», «получается, я не могу жить без…», «доза», «ломка», «синдром отмены», «мне все время нужно…», «слезть с иглы» и т. д. «Вся эта затея казалась мне совершенно безопасной. Признаю: я ошиблась», - сообщает Катерина Мурашова. (Кого боятся подростки. Запись в блоге «Сноб», 30.01.12.) *** Инструменты, которые, как мы считаем, облегчают нашу жизнь, одновременно порабощают. Пользование интернетом - это вовсе не возможность, дарованная нам прогрессом. Это обязанность, навязанная нам современностью. Уезжая в глушь, мы почему-то непременно сообщаем окружающим, что некоторое время будем без связи. Мы как будто извиняемся. Если Василий Пупкин долго отсутствует на форуме или в «Фэйсбуке», френды поинтересуются: «Где Василий, что с ним случилось?». А если не поинтересуются – бедный Василий, никто не заметил его отсутствия. Неужели он никому не нужен? Если мы хотим купить что и не находим в Интернете информации о фирме, мы ничего у нее не купим. В современном бизнесе компания не может существовать без представительства в Интернете. Для бизнеса веб-представительство - уже не дополнительная возможность, а вопрос существования. Нет в интернете – нет в бизнесе. Скоро то же самое мы скажем про человека. Нет ссылки – нет человека. Публикуюсь, следовательно, существую. Публикаторство из возможности превращается в обязанность. И чем дальше – тем больше. Это логично, ведь публикаторство теперь является способом социализации. *** Старый мир вещательного контента был глух к людям. В мире проповедей, указов, книг, газет, телевидения и радио люди присутствуют лишь в виде пассивной воспринимающей аудитории. Связь всегда односторонняя: сверху вниз. Новый мир соучастного контента смешал авторов и публику. Любой может участвовать в производстве контента без предварительного отбора и разрешения. Но что значит участвовать? Максимальная активность потребителя старых медиа – переключение кнопок на пульте или листание страниц газеты. Серфинг известен и в интернете, но здесь он – минимально возможная активность. То есть минимальный уровень вовлечения в Интернете уже равен максимальному уровню вовлечения в старых медиа. Однако эта минимальная активность сама по себе не обеспечивает веб-присутствия. Если ты только потребляешь контент, тебя не видно. Тебя нет. В Интернете простое пассивное потребление невозможно. Среди двух с лишним миллиардов пользователей Интернета вряд ли найдется хоть кто-то, кто использовал бы сеть исключительно для получения информации. Потребитель неизбежно вовлекается дальше, больше. Срабатывает заклинание Маклюэна1: средство меняет пользователя. Если Интернет дает возможность активного участия, человек втягивается в эту возможность и начинает соответствовать ей. Проявляется это удивительное свойство Интернета: возможное становится обязательным (мы еще столкнемся с этим правилом). В результате веб-присутствие самим своим функционалом заставляет людей проявлять контентную активность. Мои родители пришли в Интернет в возрасте 70 лет лишь для того, чтобы общаться со мной через тысячи километров. Но стоило им только попасть туда – и кто смог бы оградить их от использования всех возможностей, предоставляемых интернетом? Они завели личные профили в соцсетях, сложили туда любимые фильмы и песни, нашли друзей, завели с ними переписку, участвуют в опросах, они расшаривают понравившиеся им тексты и ролики. Они участвуют в производстве и циркуляции контента. Теперь это обязанность всякого человека, попавшего Интернет. *** В апреле 2012, Поль Миллер из Нью-Йорка, автор издания The Verge, начал эксперимент. Как и подростки в проекте Катерины Мурашевой, он отказался от Интернета, но не на день, а на год. Ему захотелось избавиться от интернет-зависимости и всего плохого, что с ней связано. Прежде всего – избежать бессмысленных потерь времени, ощутить полноту жизни. Его поучительный опыт описан в блестящей статье I’m still here: back online after a year without the internet. Статья стоит того, чтобы прочитать и понять, какова она - жизнь современного человека без Интернета. Многие ведь уже и не помнят; а становится еще больше тех, кто и не знал. «В начале 2012 года я был изможденным 26-летним человеком. Я хотел вырваться из гонки в этом беличьем колесе состоящем из проверки входящих, из этого потока www-информации, смывающей мои способности мыслить. Я мечтал о побеге… За минуту до полуночи, 30 апреля 2012 года, я выдернул штепсель сети, выключил вайфай и поменял мой телефон на более древний. Я почувствовал себя просто здорово», - пишет Пол. В первые месяцы он испытывал необычайный подъем духа и прилив физических сил. Он стал больше встречаться с друзьями, гонять на байке, играть в фрисби. Вот некоторые цитаты: «...Я потерял 15 фунтов без особых усилий. Я купил новую одежду. Люди стали говорить мне, как клево и каким счастливым я выгляжу. …Без особого понимания, как подступиться, я вдруг написал половину давно задуманного романа и еще писал по очерку каждую неделю для The Verge. В те первые месяцы мой начальник был слегка шокирован тем, как много я пишу – как никогда до и никогда после. …Поскольку в голове моей прояснилось, моя усидчивость возросла. Первый месяц 10 страниц Одиссей еще давались с трудом. Сейчас я могу читать 100 страниц за один присест. А если это увлекательная проза – то несколько сотен. …Я научился ценить идеи, которые не могут быть спрессованы в запись блога, но требуют выражения длинной в роман. …Ну и, наконец, - не знаю, имеет ли это отношение к делу, - но я рыдал при просмотре «Отверженных».» *** Однако затем что-то случилось с Полом. Свежесть освобождения прошла. Утратив возможность авторства, Пол стал пассивным, воспринимающим существом: «К концу 2012 я столкнулся и с оборотной стороной свободы от интернета. Я утратил мои позитивные офлайновые привычки и открыл для себя новые офлайновые пороки. Вместо того, чтобы использовать недостаток развлечений и обратить его в обучение и творчество, я обратился к пассивному потреблению и замкнутости. Год спустя, я не так уж часто седлаю свой байк. Моя фрисби собирает пыль. Я неделями не вижусь с другими людьми. Моим любимым местом стал диван. Я кладу ноги на стол, играю в видеоигры и слушаю аудиокниги. Я подбираю тупые игры, типа Borderlands 2 or Skate 3, и бессмысленно блуждаю в игровом пространстве, слушая вполуха книгу или просто в тишине.» В начале эксперимента Пол считал, что интернет является «неестественной средой для человека». Однако оказалось, что если человеческая активность переместилась в интернет, то интернет оказался натуральной средой обитания: «Я выпал из течения жизни. Мой план заключался в том, чтобы покинуть Интернет, найти настоящего Пола и настоящую жизнь. Но настоящий Пол и настоящая жизнь уже оказались неразрывно связаны с Интернетом. Жизнь без интернета не просто была другой – она была не настоящей.» И, наконец, именно интернет давал чувство связи с обществом: «В Интернете легко обозначить для других, что ты жив-здоров, легко поддерживать рабочие связи с коллегами, легко быть на своем месте в обществе, тогда как в офлайне не выходишь на связь с друзьями подолгу.» И вот его заключение: «Интернет – это не что-то такое, что ты делаешь сам. Это то, что мы делаем вместе друг с другом. Интернет – это место, где находятся люди… После того, как я вернулся в Интернет, наверное, я все еще использую его зачастую неправильно. Я могу тратить время впустую, отвлекаться, бродить по неправильным ссылкам. У меня не будет много времени для чтения или написания великого американского романа. Но, по крайней мере, я буду на связи.» *** Проявленная публично личная активность, отраженная другими и в других, позволяет человеку занять свое место в обществе. Примерно так же, как это происходит в реальной жизни, но только гораздо быстрее и по другим критериям. В офлайне людям могут понадобиться долгие годы и многие заслуги, чтобы расширить круг своего признания на несколько человек. В интернете то же самое можно получить за несколько минут, в гораздо более серьезных масштабах (хотя и не всегда с приятными последствиями). Интернет стал пространством социализации. Пока еще это пространство воспринимается как альтернативное. Но накопленный в интернете социальный вес уже вполне может состязаться с офлайновым статусом. В конце концов, обществу все равно, как его члены определяют взаимные позиции друг друга. Для этого людям нужно всего лишь как-нибудь взаимодействовать, строя свои персональные соты на виду друг у друга и наполняя их переработанным контентом ради статуса и обмена. Став новым пространством социализации, Интернет становится пространством жизни. Пока это фигуральное выражение. Но если честно проследить логику событий достаточно далеко вперед, то возникнет подозрение, что мы тренируемся для физического переселения. |
|
|


Суббота, 29.11.2025, 13:20
Приветствую Вас, Гость Нашей Планеты




